В подвешенном состоянии
6 ноября, 2019
АВТОР: Олег Демидов
Медведев Г. Нож-бабочка. — М.: Воймега, 2019.
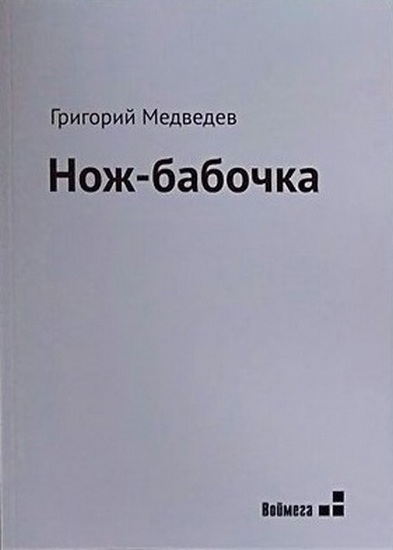
Благодаря премии «Лицей» софиты читательского внимания выхватили некоторое число молодых поэтов: Андрей Фамицкий, Елена Жамбалова, Антон Азаренков, Оксана Васякина и т.д. Кто-то уже был заметен, и премия лишь усилила к ним интерес. А кто-то как герой этой статьи Григорий Медведев — кому неудобно под прожекторами и кто бежит известности.
Кажется, что даже премия никак на нём не отразилась, а появившаяся “воймеговская” книга — закономерный результат долгой и упорной творческой работы, но никак не результат литературного процесса.
Впрочем, попробуем разобраться.
В постакмеистическом контексте
Эта неприметность Медведева сказывается в первую очередь на поэтике — как будто усереднённой, затёртой, безликой. На самом деле это, конечно, так. Если поставить рядом его коллег, пишущих плюс-минус в той же манере (Владимир Косогов, Андрей Фамицкий), он будет выгодно отличаться лингвистической скромностью и размеренной созерцательностью. К чему обновлять словарь (свой и поэзии в целом) — возможно, думает поэт — если это отвлекает от самого главного — от попыток уловить чудо.
Ведь что такое поэзия? Это бесконечная (по)пытка запечатлеть прекрасное; понять что-то такое, чего никто раньше до тебя не понимал; увидеть, чего никто не видел. Если этого не случается, не выходит и стихов.
Как работают коллеги Медведева? Нанимают себе в “учителя” Георгия Иванова и Владислава Ходасевича, Сергея Гандлевского и Дениса Новикова, пережёвывая в который раз жвачку постакмеизма. Эмигрантскую печаль берёт на вооружение Фамицкий, глухой провинциализм с запахом (точнее было бы сказать — с привкусом) тройного советского одеколона — Косогов.
Медведев же поступает более интересно: его постакмеизм нацелен на элегии по детству. Подобное встречается и у двух вышеупомянутых авторов («В пять утра запрягали коня./ И будила меня, семиклашку/ Молодого отца беготня/ С полосатой душой нараспашку…» Косогова; «Школа» и другие стихи с травматическим опытом Фамицкого), но скорее как случайность или эксперимент. А здесь — концепция.
В бэкграунде Медведева примерно тот же список авторов: от Баратынского и Ходасевича до Мандельштама и Слуцкого. Что привлекает в них? Наверное, приверженность быту, конкретике, детали и одновременно выход в метафизику.
Разберём на примере:
Блуждая в сумрачном лесу,
я вспомню, как смотрел с веранды
туда, где яблони-гиганты
и снег на ветках, на весу.
Не тай за той калиткой в сад
защёлкнутой, повремени-ка,
пока оттуда тихо-тихо —
тук-тук, тук-тук — ко мне стучат.
Зачин из «Божественной комедии» Данте (куда избитей?) задаёт возраст лирического героя. Яблони-гиганты и падающий снег (вот оно чудо, которое необходимо зафиксировать!) погружают в детство. Если бы Медведев остановился на этом, всё было бы максимально просто. И это была бы очередная перепевка — “с голоса” одного из “учителей”.
Но поэт усложняет композицию и вводит тихий стук по калитке, отворяющей райский сад. И возникает ещё одно чудо. Мысль начинает витать в трёх пространствах: в настоящем физическом мире, в воспоминаниях о прошлом и в предчувствии будущего послесмертья.
Такие пируэты не могут не завораживать.
От элегии к древнерусской тоске
Владимир Козлов в своей работе «Русская элегия неканонического периода» пишет: «Пространство элегии всегда конкретно».
В эту постакмеистическую конкретность и упирается Медведев:
Это «Дон» — федеральная трасса.
Впереди по ней дом, сад, терраса.
Триста вёрст перелесков и пашен,
весь маршрут желтизною подкрашен…
Или чуть иначе:
Август стоит на Яузе,
на невеликой реке.
Осень стоит на паузе
где-то невдалеке.
Или даже так, с уходом в метафизику:
Я сплю в глубоком ноябре
вневременном, бесснежном, черном.
На дне его, внутри, в нутре,
подобно неподвижным зёрнам
озимым.
Здесь и зёрна Ходасевича (когда же они кончатся?), и строй поэтической речи, рассчитанный на длинное дыхание. Хорошо, что Медведев почти не смотрит в сторону “ахматовских сирот”, а то нас ждали бы бесконечные “портянки” на манер «Джона Донна» Иосифа Бродского или «Мальтийского сокола» Евгений Рейна.
Но, кажется, все эти поэтические штампы, которым не перестаёшь удивляться, появляются неслучайно. Владимир Козлов в своей работе разбирался в типах элегии и вывел следующие: кладбищенская, “ночная”, на смерть, элегия личных итогов и т.п. В случае Медведева стоит, наверное, говорить о переосмыслении “унылой” элегии.
Козлов о ней пишет:
«В её основе, с одной стороны — сентиментальная концепция личности, с другой — особый условный формульный язык, который позволял жанровой разновидности быстро обрести популярность».
Формульный язык, то есть построенный по формулам, по штампам. А в нашем случае — ещё и по стандартным аллюзиям и реминисценциям.
Эта “унылая” элегия порождает очень спокойную, чуть ли не статичную лирику. Движение, мысль, жизнь возникают за счёт ностальгических ноток или благодаря уходу от строгой силлабо-тоники в сторону акцентного стиха. И всякий раз — это очень тонкая работа.
Ты вроде вычитываешь знакомые пейзажи, угадываешь следующую рифму, знаешь, как всё должно закончиться, а потом неожиданно даётся какое-то нехарактерное словечко или выстраиваются любопытные образные параллели — и случается чудо, случается стихотворение.
Вот, например, два заключительных катрена из стихотворения «Ночью время шумит, убывая…»:
В этой взрослой постели бессонной,
тесной жизни своей взаперти
славий щекот и гул монотонный
слушаю до пяти, до шести.
Соловей заливается сладко,
только, братия, солон полон.
Обступила со всех-то сторон
тьма, и воет вдали Ярославка.
И не так уж важно становится, что нечётные строфы строятся на перекрёстной рифме, а чётные — на кольцевой. И не так уж странно выглядит выражение “славий щекот”. И не так уж обескураживающе смотрятся анжамбеман в последней строфе и предшествующая ему затычка — частица “то”. Всё это отходит на второй план, потому что в доминантной позиции оказывается всё та же элегическая нота, мелодика стиха и неожиданная метафора “воет вдали Ярославка”, которая вместе с игровым старославянским контекстом окунает читателя, как пел Борис Гребенщиков, в древнерусскую тоску.
Что может быть ещё более “унылым”?
В ответе за поколение
Ностальгия по детству в случае Медведева часто становится не только его личной, но и коллективной. Поэт способен отвечать за целое поколение — рождённых на изломе эпох, в 1980—1990-е годы. Случайно у него это получается или он намеренно насыщает стихи приметами позднесоветского и постсоветского детства — не так уж важно. Пусть даже так работает его бессознательное — получается хорошо.
В подтверждение этой мысли — ещё один отрывок из работы Владимира Козлова:
«Воспоминание в неканонической элегии превращается в самостоятельного субъекта-призрака, раскидывается идиллическим миром детства, а порой оказывается мерилом способности быть человеком. Воспоминание становится средоточием как индивидуальных, так и коллективных ценностей — более того, именно акт воспоминания запускает сам механизм формирования ценностей».

Воспоминание о детстве как “мерило способности быть человеком” в случае Медведева становится осмыслением взросления и нахождением своего места в мире. А что до коллективных ценностей, то их удобно отследить через нож-бабочку. Это и название книги, и центральный образ. Вне этого контекста коллективных ценностей он смотрится странно: лирический герой слишком скромен, тих и даже аутичен, чтобы как-либо воспользоваться им.
Посмотрим, как нож-бабочка работает в конкретном стихотворении:
Лето оклеено смертью с изнанки.
Чем бы поддеть таким? Нож-
бабочка бьётся, вертясь, о фаланги,
кожу царапает сплошь.
Это без троек окончить девятый
класс и гулять дотемна?.
Бабочка, бабочка, как ты ни прядай,
будешь приручена.
Лязгают узкие крылья стальные,
резво взлетают в зенит.
И нарезая зигзаги шальные,
лезвие воздух разит.
<…>
Библиотечный подклеен газетой
ветхенький том, не беда.
Бабочка, бабочка, список на лето
не дочитать никогда.
Для лирического героя это не более чем игрушка, в лучшем случае — символ мальчикового детства. А в нужном контексте этот образ подключает бессознательное. И таких маркированных деталей в книге находится с излишком: хлеб, взятый впрок из столовой и поедаемый во время уроков; отцовский мешковатый пиджак; БГ; кассетный магнитофон, жующий плёнку; две рядом стоящие школы, одна — нормальная, вторая — “дебильная”; беседки-грибки, под которыми отлично пьётся; свитер колючий; матерок “позволительный, футбольный” и многое-многое другое.
Вот они ценности и маркеры целого поколения.
“Крылатые” образы
Размеренность, даже медлительность созерцания необходимы Медведеву, дабы лишний раз показать груз прожитых лет (по сравнению с легкокрылым детством) и непринуждённость воспоминаний. Помогают в этом деле и отдельные образы.
Например, помимо ножа-бабочки возникают бабочка-капустница:
Перелетает капустница
реку, недолог полёт.
Жарко, а сумрак опустится —
холод с низин поползёт.
Но никогда не смеркнется,
птичий не смолкнет хор
для мимолетной смертницы,
хрупких её сестер.
Не для таких — гололедица,
стужа, поля в снегу.
Вряд ли нам выпадет встретиться
там, на другом берегу.
Лето уходит нехотя
вниз по теченью, на юг.
Где же капустница? — Нетути.
И пустовато вокруг…
Физический переход от лета к осени — на первом плане, на втором — переход от жизни к смерти. Даже так: от короткой жизни к скоропалительной смерти. Тонко сделано, что и говорить. При этом акцент делается на “крылатом” образе: капустница становится отражением ножа-бабочки. Если мальчиковая игрушка “заземляет” лирического героя в детстве, то насекомое переносит его на “другой берег”, читай — в инобытие, в послесмертье, в неизвестность, в Рай и т.п.
Среди подобных “крылатых” образов, которые заточены по тому же принципу: показывать скоротечность жизни и, по большому счёту, эфемерность бытия — в книге встречаются “пёрышко”:
Из кафешного тёмного зальца
выйти как-нибудь ввечеру,
жизнь легко выпуская из пальцев,
словно пёрышко на ветру.
За ним — “кленовый лист” в стихотворении про прабабку Наталью:
А мне по созвучию представится лист,
прошлогодняя листва на дорожках.
Так про себя навсегда и отмечу:
прабабушка стала листком.
Кладбищенским, палым, кленовым.
Ветер её унёс.
И ещё — “имя” лирического героя, которое тот наносит на опору виадука у провинциальной ж/д станции, чтобы проезжающие в поездках пассажиры увидели и тут же забыли его; и сам лирический герой, висящий на турнике и пытающийся из забитого мальчишки стать юнцом, умеющим постоять за себя, в то время как те, с кем можно было бы поквитаться, уже давно мертвы.
И таких “крылатых”, застрявших в воздухе примеров много. На них строится книга — и получается цельное лирическое высказывание.
Где выход, брат?
Однако, несмотря на осознанную работу, Медведев рискует навсегда оторваться от течения жизни и остаться в подвешенном состоянии — в белёсой дымке воспоминаний. Было детство — будет юность, за нею — зрелость, после — география ну и что-нибудь ещё.
Есть ли выход из замкнутого круга?
Надо отойти от заданной траектории и побывать в настоящем времени. Тут, может быть, не так уж хорошо, зато есть почва для серьёзной литературы.
мы выросли и стали мудаками.
мир нас поймал со всеми потрохами,
перефразируя г.с. сковороду.
пришлось идти работать муравьями:
нас подсчитали, уплотнили, уровняли
и взяли на полставки за еду,
где мы состарились и скоро миновали.
мир нас поймал, мы в мире мировали,
и перед сном читали ерунду.
Тут появляются и смелость, и оригинальность, и резкие слова, оживляющие обстановку, и изысканные точёные рифмы (миновали-мировали), и не столь избитый (хотя не без этого!..) Григорий Сковорода, и “новенькая” форма (не замученные “кирпичики”, а в интернет-публикациях — терцеты, в книге — единая строфа). Сразу возникает движение, вместе с ним — выход на более массового читателя.
А главное — появляется жизнь, а не раздумья о ней.
Книга же получилась любопытной, цельной, именно книгой стихов, а не сборником случайных текстов. Появление её закономерно и даже было ожидаемо.
А что до премии и её прожекторов, так это всё:
Суета сует и всяческая суета,
Но даже суета бывает та или не та.
Радостно, что и Медведев это понимает, и потому бежит этой суеты.

